Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ: «После боя мы могли рядом с разорванным трупом есть и даже ставить на него котелки, и хотя привыкнуть к этому невозможно, чувствительность притупляется»


(Продолжение в № 34, № 36 и № 37)
Так же, как сегодня мы судим о древних цивилизациях по дошедшим до наших дней культовым изваяниям, наши потомки узнают всю правду о безумном ХХ веке, глядя на монументы, созданные Эрнстом Неизвестным, — они навечно установлены в Египте и теперь уже несуществующей Югославии, в Швейцарии и Швеции, в Лондоне и Нью-Йорке, Вашингтоне и Москве, Одессе и Магадане...
Безусловно, их могло быть гораздо больше, если бы не подленькие интриги, без которых ни один столь финансово и морально выгодный проект не обходится, — например, когда был задуман мемориал на Мамаевом кургане в Волгограде, выиграл конкурс 30-летний Эрнст, но его матерые коллеги тут же напели в уши партийному руководству, что это якобы плагиат. Композиция, дескать, напоминает другую, установленную в одном из городов Германии, и достойно справиться с работой такой молодой скульптор не сможет — в итоге памятник Родине-матери (и волгоградский, и впоследствии, увы, киевский) доверили ваять Евгению Вучетичу.
На журналистов мой собеседник немного обижен: ему всегда хотелось говорить о творчестве и его дуализме, об интеллектуальной скорлупе, в которой так или иначе художник оказывается, а акулы пера дружно расспрашивали о скандально известной полемике с Хрущевым на выставке в Манеже 1 декабря 1962 года, которая стала каноническим образцом столкновения художника с властью (кстати, минуло с той поры ровно полвека). Этим интересовался любой русский (вернее, советский), приходя к нему в мастерскую, и до того доходило, что хозяин брал таких гостей за шиворот и вышвыривал... Только теперь, с годами, поостыл и даже, скрепя сердце, признал, что «Хрущев с вульгарной точки зрения сделал очень много — он обратил внимание мира на такого человека, как Неизвестный».
Скульптора можно понять, ведь сразу после разноса, устроенного ему первым секретарем ЦК и одновременно председателем Совета Министров, Эрнст возвратился в свою мастерскую, по его словам, весь взъерошенный, и в голове только одна мысль пульсировала: «Когда придут и возьмут?». Чтобы уйти от действительности, у него был выбор: либо смертельно запить, либо работать, и хотя прежде Неизвестный частенько выбирал первое, в этот раз предпочел второй вариант. Помощник навалил ему глины, сделал по его рисункам каркас... Так появился «Орфей», уменьшенную копию которого сегодня вручают лауреатам российской телепремии ТЭФИ: «Это рождено в таком напряжении, что до сих пор живет», — говорит автор.
Он, который пытался выглядеть перед своими недоброжелателями эдаким бесшабашным штрафником, десантником, хулиганом и пьяницей, возможным жаловаться не считал, хотя называл себя единственным в Союзе подпольным скульптором. В течение 25 лет Эрнст Иосифович был, по сути, выкинут из обращения как художник: работал каменщиком, литейщиком, грузил на вокзале соль, а когда однажды в ходе разборок из-за заказа конкурент подослал к нему двух молодчиков, чтобы те его избили, Неизвестный взял одного из нападавших за руки и так молча сжал, что сломал их...
Скульптуры Эрнста Иосифовича — это застывший крик, боль и кровоточащая рана, это, если хотите, культурный шок. Они гипнотизируют своей стихийной мощью и бешеным напором, в них отразились метания неприкаянной души, поиски и страдания человеческого духа, но когда, щеголяя словами «кубизм» и «экспрессионизм», искусствоведы зачисляют автора этих работ в модернисты, Неизвестный твердо их поправляет: «Я архаик и опирался на древность». Внутреннюю связь он, мистически самобытный скульптор, ощущает не с представителями авангарда, а с индейцами майя и создателями скифских баб, которых в молодости реставрировал.
Самое интересное, что советской власти этот неистовый, всегда тяготевший к размаху и масштабу талант был нужен, ведь в пропаганде, стремившейся сделать людей одинаковыми винтиками, монументальная скульптура всегда занимала первое место, что весьма убедительно демонстрирует сегодня северокорейский режим. Еще в бытность Эрнста Иосифовича студентом его работы приобрели для своих коллекций Третьяковка и Русский музей — казалось, жизнь удалась, а он вдруг уперся, заартачился, и когда вокруг него устроили очередной идеологический шабаш, один из партийных функционеров сказал с укоризной: «Из вас изгоняют беса, а вы капризничаете»...
Эрнст Неизвестный уверяет, что диссидентом никогда не был: «Мною, скорее, владело эстетическое негодование против абсолютной серости и еще из-за того, что мне не давали работать» (до эмиграции из СССР он создал 850 скульптурных работ, а продал государству только пять). Уехал Эрнст Иосифович в 50 лет — как сам он определил, «из-за эстетических разногласий с режимом», и, начав с нуля, добился мирового признания. Бывших соотечественников при этом избегал он довольно долго и слышать русскую речь не хотел: отвращение к ней было настолько велико, что даже книги своего любимого Набокова читал исключительно по-английски.
Время с жестокой и неблагодарной Родиной его примирило — власти новой России пожаловали ему ордена, наградили Государственной премией... За последние 10 лет в России установлено полдюжины его монументов, и не только на окраинах, но и в Москве, он также пообещал подарить несколько работ Екатеринбургу, в котором в далеком 1925 году родился, но музей, в который Неизвестный завещал превратить свой дом с парком скульптур, останется в Соединенных Штатах, где прожил почти 40 лет, — эта страна оказалась к гению, пусть и чужому, куда добрее.
«УЗНАВ, ЧТО НАЧАЛАСЬ ВОЙНА, Я ПОЧТИ НЕПРИЛИЧНО ОБРАДОВАЛСЯ: НА ГЛАЗАХ ТВОРИЛАСЬ ИСТОРИЯ, И У МЕНЯ ПОЯВИЛСЯ ШАНС В НЕЙ ПОУЧАСТВОВАТЬ»
— Эрнст Иосифович, я счастлив находиться в гостях у вас — крупнейшего русского скульптора, художника и общественного деятеля современности. За окнами шумит Нью-Йорк, Сохо, и разве могли представить когда-то ваши родители, что судьба занесет их сына так далеко — за океан... Кстати, родословная у вас для советской элиты весьма нетипичная: люди, принадлежавшие к ней, были в основном выходцами из рабочих или крестьян, а у вас дедушка — купец, отец белым офицером был, служил у генерала Антонова, мать — крещеная еврейка. Вы из семьи репрессированных?
— Родителей моих, к счастью, репрессии обошли, но они были лишенцами, то есть...
— ...пораженными в правах...
— Ну да, хотя в юридических терминах я не силен. Хорошо помню Свердловск и нашу улицу — мальчишкой я был попросту неприкасаемым, потому что отец у меня не пролетарий, а врач, мать — поэт и биолог. Выглядело это неприлично, а поскольку улица была блатной, я старался соответствовать и приблатнился. До сих пор могу с уголовниками объясниться — знаю феню, кроме того, в юности я научился драться, потому что надо было себя защищать, а слабых бьют.

— Дрались жестоко или до первой крови?
— Месили друг друга безжалостно... Народ там привычный — на Урале, в Сибири традиционно стенка на стенку ходят, но дело в том, что мальчишки, которые меня задирали, были намного старше. Мне 10-12 лет было, а им по 15, уже почти мужики, и дрались изрядно. Повезло, что с юных лет имел не тщедушное телосложение, мальчишкой коренастым был, крепким — прямо как сейчас: не рос, но вширь раздался, кроме того, отец у меня драчун — гены, наверное.
— У вас, говорят, какое-то обостренное чувство собственного достоинства — это в отца?
— Трудно сказать, но честь, достоинство — некая спиритуальная вещь, неуловимая, понимаете? Мой друг философ Мераб Мамардашвили считал эти чувства метафизическими, и у меня это с детства.
— Вы помните, как узнали о том, что началась война?
— Это в парке Дворца пионеров случилось, где я гулял, — голос Левитана услышал и увидел людей, которые остановились под репродуктором. О нападении Германии на Советский Союз Молотов сообщил...
— ...а что вы почувствовали: сердце стучало?
— Вы знаете, да, но я почти неприлично обрадовался, потому что на глазах творилась история и у меня появился шанс в ней поучаствовать. Мальчиком я был романтическим, героическим, на книгах из серии «Жизнь замечательных людей» воспитанным, — мне тоже хотелось прикоснуться к чему-то великому и замечательному, и больше всего боялся, что закончится эта война до того, как смогу принять в ней участие.
— Вот разобьем скоро фашистов, да?..
— Ну, конечно, я верил, что мы победим, но тогда обо всем этом даже не думал.
Из книги «Говорит Неизвестный».
«В 1942 году я оказался в Самарканде вместе с эвакуированной из Ленинграда моей школой — это была школа для одаренных детей, официально именовавшаяся Средней Художественной Школой (СХШ) при Академии художеств (потом ее стали называть школой одаренных родителей, но когда туда поступал я, там был честный всесоюзный конкурс). Каганович пытался создать заведение по принципу чуть ли не царского лицея — мы были на полном государственном обеспечении, и образование нам давали блестящее, неправдоподобное. В преподавании на одном из курсов, состоявших из пяти человек, участвовало порой до 14 профессоров с известными именами, но долго я там не проучился — в августе вместе с Яном Сысоевым (он был аспирантом) мы пошли добровольцами на войну».
— Как и многие представители вашего поколения, вы приписали себе год и в военное училище были направлены...
— Нет, добровольцем я записался на фронт — сразу подал заявление в военкомат, однако, как человека грамотного, меня в Кушку, на границу с Ираном и Афганистаном направили. Как-то мы с российским министром обороны генералом Родионовым беседовали, и когда он услышал, что я Туркестанское стрелково-пулеметное училище в Кушке окончил, прямо во фрунт чуть не встал — дело в том, что это было самое суровое военное училище в России, и еще в старину говорили: «Меньше взвода не дадут, дальше Кушки не пошлют».

— Самая южная точка СССР...
— Там над всем поселением, над казармами огромный крест-часовенка возвышался, установленный на самой высокой сопке (такие в честь 300-летия дома Романовых на всех рубежах Российской империи были поставлены. — Д. Г.), и на кресте была старинная, с ятями, сделанная черной краской надпись: «Здесь медленно умирал я душою и телом» — это какой-то солдат русский оставил. Условия там очень суровые были, и никакие, так сказать, штучки не проходили.
— После ускоренного курса обучения вы в десантных войсках оказались...
— Так точно, в танковом десанте Второго Украинского фронта.
— Тяжело было на войне, страшно?
— Ну, страшно, конечно, бывало, но все-таки легче, чем в училище, потому что там нас гоняли до смерти — такой был режим. Нам, курсантам, по 17-18 лет было (курс обучения длился с ноября 1943-го по апрель 1944-го. — Д. Г.)...
Из книги «Говорит Неизвестный».
«Почему я не люблю говорить или писать о войне? Не понимаю, как люди, ее пережившие, могут стройно о ней писать. Помню свое первое впечатление: я прибыл на фронт, должен быть командиром роты в 120 человек — а вижу восемь стариков, которые сидят в окопе и под дождем мокнут, а у меня — новая плащ-палатка... Ну, первым делом я им ее отдал, но в целом последовательности событий у меня не сохранилось — лишь отрывочные, полностью беспорядочные картины своего существования».
— Будучи лейтенантом, вы получили расстрельный приговор трибунала...
— Ну, нет — это, поверьте, преувеличение. Грозили...
— За что?
— А за драку. Морду офицеру набил — уж очень противный был.
— Сам напросился?
— Ну да.
— Расстрел заменили штрафбатом?
— Да нет, и вообще, давайте-ка тему изменим, потому что мне она неприятна — не хочется быть доносчиком на самого себя, к тому же своими проступками не горжусь.
«МЕНЯ СОЧЛИ МЕРТВЫМ, ПОНЕСЛИ В ПОДВАЛ, И САНИТАРЫ НЕЛОВКО СБРОСИЛИ НА ПОЛ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО ПОЗВОНОЧНИК ПРОНЗИЛА БОЛЬ И Я ЗАОРАЛ: ТОГДА-ТО ОНИ ХВАТИЛИСЬ»
— В последнем своем бою вы крайне тяжелые получили ранения — в какие жизненно важные органы?
— Ну, разрывная пуля (дум-дум называется — она разрывается внутри) вошла в грудь вот здесь (показывает). У меня три ребра выбиты, три межпозвоночных диска, разорвана диафрагма, открытый пневмоторакс... Если разденусь, вы испугаетесь: я весь в шрамах, а к этому еще и контузия добавилась — благодаря такому набору вторую группу инвалидности мне дали. В заключении врачей было написано: неработоспособен, нуждается в опеке, и я действительно в ней нуждался (позвоночник — это очень серьезно), но дело в том, что был необыкновенно работоспособен. Сейчас вот я это выражение понял: «болят старые раны» — они меня таки догнали. Прошлые болезни выпрыгнули...
— Не знаю, легенда это или нет, но говорят, что вас уже отвезли в морг и только там кто-то из санитаров обнаружил, что вы живой...
— Да, санитарка — меня небрежность медицинского персонала спасла. Я абсолютно был бездыханным, и меня сочли мертвым, в подвал понесли, а санитарам, совсем мальчишкам, которые таскали покойников, спускаться по лестнице тяжело было — я же весь в гипс был закован (кстати, это я «продал» Высоцкому тему: «И вот лежу я на земле загипсованный, каждый член у меня расфасованный...» — я ему рассказал, что когда с меня сняли гипс, почувствовал себя беспомощным, как черепаха без панциря). Они неловко меня на пол положили или, может, сбросили: с мертвым чего считаться — в результате гипс где-то сдвинулся, позвоночник пронзила боль и я заорал: тогда-то они хватились.
Там, я замечу, была нянечка, которая меня хорошо знала (это очень странная история, мистическая!), потому что до войны комнату в доме моего деда со стороны матери снимала. Она побежала, позвала врачей, меня оживили, снова наверх унесли, что-то начали делать, осмотрели позвоночник. Ничего там особенно не повредилось, просто сейчас, если иногда неправильно повернусь, адская боль пронизывает.

— Это правда, что посмертно вы были награждены орденом Красной Звезды, который вручили вам спустя 25 лет?
— (Кивает).
— Среди фронтовиков он считался весьма чтимой наградой, а сколько орденов и медалей у вас всего за войну было?
— Да я уже и не помню... Несколько, а вместе с юбилейными достаточно — во всяком случае, хватает, чтобы иногда, как у старых ветеранов заведено, покрасоваться. У меня даже что-то украинское есть —дали когда-то.
— В детстве, по вашим словам, вы были отъявленным хулиганом, а убивать в Кушке учили?
— Только этому и учили.
— Целенаправленно? Как Илья Эренбург в своей статье в «Красной звезде» «Убей!» призывал?
— Ну, конечно. Пулей, штыком, ножом, голыми руками — всем.
— Напрашивается вопрос: лично вы много немцев убили?
— Трудно судить — все-таки после училища в основном из пулемета стрелял, а там черт его знает...
— Врукопашную не ходили?
— Имеете в виду бой, за который звездочку получил? У меня есть выписка из наградного листа: «Одним из первых поднялся в атаку, будучи ранен...» — я впрыгнул в траншею, где окопались немцы... Собственно, по этой истории поэт Андрей Вознесенский свой реквием написал, почти дословно повторив формулировки оттуда...
— Не откажу себе в удовольствии для читателей эти стихи повторить.
Лейтенант Неизвестный Эрнст.
На тысячи верст кругом
равнину утюжит смерть
огненным утюгом.
В атаку взвод не поднять,
но родина в радиосеть:
«В атаку, — зовет, — твою мать!».
И Эрнст отвечает: «Есть».
Но взводик твой землю ест.
Он доблестно недвижим.
Лейтенант Неизвестный Эрнст
идет
наступать
один!
И смерть говорит: «Прочь!
Ты же один как перст.
Против кого ты прешь?
Против громады, Эрнст!
Против глобальных зверств.
Ты уже мертв, сопляк?»...
«Еще бы», — решает Эрнст.
И делает
Первый шаг!
И Жизнь говорит: «Эрик,
живые нужны живым,
Качнется сирень по скверам
уж не тебе, а им.
И далее:
Лишь мама сползет у двери
с конвертом, в котором смерть,
ты понимаешь, Эрик?!».
«Еще бы», — думает Эрнст.
Но выше Жизни и Смерти,
пронзающее, как свет,
нас требует что-то третье, —
чем выделен человек.
Животные жизнь берут.
Лишь люди жизнь отдают.
Тревожаще и прожекторно,
в отличие от зверей, —
способность к самопожертвованию
единственна у людей.
Единственная Россия,
единственная моя,
единственное спасибо,
что ты избрала меня.
Лейтенант Неизвестный Эрнст,
когда окружен бабьем,
как ихтиозавр нетрезв,
ты пьешь за моим столом,
когда титаны и паиньки
пищат, что ты слаб в гульбе,
я чувствую, как памятник
ворочается в тебе.
Я голову обнажу
и вежливо им скажу:
«Конечно, вы свежевыбриты
и вкус вам не изменял.
Но были ли вы убиты
за родину наповал?».
— ...По существу, это был рукопашный бой, во всяком случае, лицом к лицу, а потом из Указа о награждении узнал, что я почти Рембо, потому что 16 фашистов убил, но в траншеях считалось: может, я их положил, а может, и нет — за мной же пара ребят из моего взвода шла.

— Штык-ножами кололи?
— Немцы — да, а мы — нет. Мы защищались и, если враг угрожал, убивали, но не ножами, а просто из винтовок, пистолетов стреляли.
Из биографии:
Младший лейтенант Эрнст Неизвестный был в рядах штурмовиков, командовал взводом автоматчиков гвардейского полка. Его солдаты действовали в танковом десанте при разведке боем и при штурме укрепленных позиций. Уже в первых боях Эрнст был ранен и награжден медалью «За отвагу», весьма чтимую фронтовым сообществом, а о его делах в завершающих сражениях войны лаконично и достоверно рассказывает выписка из следующего документа.
Из представления к награде:
Тов. Э. И. Неизвестный, в боях западнее Рюккендорфа 28 апреля 1945 года проявил себя смелым и инициативным командиром в бою и захвате контрольного пленного. Он одним из первых поднялся в атаку, увлекая за собой бойцов своего взвода.
Ворвавшись в траншею, он гранатами и огнем из автомата уничтожил пулеметную точку и 16 немецких солдат. Будучи ранен, младший лейтенант Э. Неизвестный продолжал командовать взводом, и благодаря этому траншеи противника были очищены и взят пленный.
Командир 260 гвард. СП
майор Величко. 2 мая 1945 г.
«САМОЕ СТРАШНОЕ НА ВОЙНЕ — СИДЕТЬ В ОКОПЕ И ЖДАТЬ, КОГДА ЖЕ ТЕБЯ УБЬЮТ»
— Смерть на войне страшна или к ней привыкаешь, она обыденна?
— Да нет, не обыденна, хотя... да, привыкаешь. Я тогда написал:
...Крепко обнявшись, спят трупы.
На небе играет окровавленная луна...
Мой Мишенька-друг разорван
от позвонков до пупа.
Не поймешь, где живот, где спина.
Даль тревожная не видна...
Что значит «привыкаешь»? После боя, допустим, могли рядом с разорванным трупом есть и даже ставить на него котелки, и хотя привыкнуть к этому трудно, невозможно, чувствительность притупляется.
Из книги «Говорит Неизвестный».
«Когда я попал на фронт, советской пропаганде о зверствах немцев верил не до конца, но, увы, вскоре убедился в том, как фашисты свирепствовали. К Власову я тогда с глубочайшей ненавистью, как к предателю Родины относился, и считал своим долгом при встрече с любым власовцем убивать его немедленно, скорее, чем немца. 30 с лишним лет спустя, уже в Америке, у меня были спонтанные встречи с отдельными власовцами, и они оказались достаточно благородными и идейными людьми. Прочел я и книгу Штрик-Штрикфельда «Против Сталина и Гитлера» — она многое мне объяснила, но все-таки во мне живет, как анахронизм, фронтовое чувство предательства, и ничего поделать с собой я не могу (правда, распространяется это не на отдельных людей, а на явление).
За зверствами немцев на русской территории последовали зверства русских на немецкой территории, однако русские зверства в данном случае имели совершенно иной характер — за ними государственная организация не стояла, они не происходили по команде свыше. Это были спонтанные ситуации, иногда невероятно жестокие, но все же командование, по политическим соображениям, старалось порыв к мести сдерживать.
Вспоминаются два эпизода. Один офицер, из простых людей, взял будапештский банк и набрал целый мешок какой-то валюты. Когда в Австрии в наш госпиталь он попал (он был ходячий больной), с мешком этим не расставался, кутил в местном ресторане, платил с русской широтой прямо из мешка горстями, и обслуживали его превосходно, а как-то раз пропил все, после чего его отнесли наверх и положили в номер. Проснувшись утром и обнаружив, что у него вообще нет денег, он, облагодетельствовавший этот ресторан, решил бежать — выпрыгнул со второго этажа, сломал ногу, был забран патрулем и расстрелян за мародерство, хотя хозяин отеля добивался его помилования. Почему за мародерство? Просто, чтобы опохмелиться, прихватил с собой простыни, наволочки и что-то еще...
Ну и второй эпизод, когда я в так называемом походе мести участвовал, — это было в каком-то небольшом городке, я ходил уже на костылях. «Ребята, — услышал, — немцев ведут пленных, пошли бить». Ну что, все инвалиды выстроились вдоль дороги, понурых немцев ведут... Подходим, кто может, ударит, охрана не отгоняет, но быстро этот пыл у русских выветрился. Если первую колонну пытались еще бить, то второй уже сигареты давали: видят — безоружные, не сопротивляются... Таковы были отношения с побежденными...».
— После окончания Великой Отечественной прошло уже ни много ни мало 67 лет — огромный временной промежуток: вам до сих пор иногда снится война?
— Более того, она не дает спать, но это скорее кошмары, чем реальные бои.
— Во сне вы идете в атаку?
— Да нет, ощущение некоторой тревоги испытываю. Самое страшное — сидеть в окопе и ждать, когда же тебя убьют: это не активное действие, и психологическое состояние тут очень похоже на панику.
— Ожидание смерти на фронте самое страшное?
— Мне трудно судить — я не психиатр, к тому же собственные ощущения выдавать за универсальные нельзя. Делать такие обобщения слишком ответственно, потому что все разные, и на одно и то же диаметрально противоположным способом реагируют.

Из монологов, записанных в мастерских Москвы и Нью-Йорка.
«До сих пор к войне я, как к мистическому, отношусь акту, и что бы пацифисты ни говорили, глубоко убежден, что война, как состояние бездны, проявляет все дремлющие в человеке качества. Люди, воевавшие даже по разные стороны баррикад, внутренне понимают друг друга гораздо лучше, чем те, кто в лицо смерти не заглядывал...
В той войне, которую знаю я, киношный пафос отсутствует, и когда, допустим, офицер, который командовал взводом или ротой, рассказывает, что «нас поддерживал такой-то танковый корпус, такая-то авиационная дивизия», — это, как правило, ложь. Откуда ты знаешь, какой корпус тебя поддерживал? — по-моему, ты даже не имеешь права это знать, во всяком случае, начальство гораздо крупнее тебя не в курсе. Даже имена своих товарищей не всегда знаешь, потому что выбивают очень быстро: ты вот сидишь, предположим, в окопе, зеленая ракета, звучит команда: «По направляющему! Вправо! Влево!» — вот, собственно, и вся война, и люди, которые должны выскакивать, поднимаются: по ним стреляют, и они бегут.
Для меня война — это отдельно стоящее дерево, или сооружение, или бруствер, или вдруг божья коровка, которая по траве перед твоим носом ползет... Оказавшись в Вене, я был потрясен картиной: на улице трупы, убитые лошади растерзанные, кровь, мы врываемся в какое-то помещение — а оказывается, это место, где пекут пирожные, и они горячие — горячие!!! Я не очень боялся немцев, молодой был, задиристый, но тут меня охватил страх: какая организованность — кругом смерть гуляет, а они с-суки... пекут!..».
«Я ПИЛ СТЫДНО МНОГО... САМА АТМОСФЕРА БЫЛА ТЯГОСТНОЙ, ДУШНОЙ»
— В одном из интервью вы признались: «После войны я три года ходил с перебитым позвоночником на костылях, кололся морфием, даже стал заикаться»...
— Я заикался, да, но не столько от ранений, сколько от контузии — это случилось, когда из одного госпиталя меня перевозили в другой, глубже в тыл. Параллельно грунтовой дороге, по которой везли нас в телегах на лошадях, шло шоссе, по которому какие-то военные машины ехали, — немцы их бомбили, ну и взрывной волной меня контузило.
— Когда все страхи и ужасы войны вроде бы позади остались, вы ощущали себя из-за этих страшных ранений неполноценным, понимали, что уже не будете таким, как раньше, или надежда не покидала?
— Я очень тяжело и много работал, и физически крепким был, несмотря ни на что. Держало упрямство: состояться хотелось, стать скульптором.
Из монологов, записанных в мастерских Москвы и Нью-Йорка.
«После войны Свердловск страшным был городом, потому что Берия выпустил по амнистии уголовников, и я, например, ходил по улице с вилкой, потому что с финкой или с ножом нельзя — это каралось, а если вилку найдут, всегда можно сказать: иду к родным на пельмени. У меня были весьма литературные представления об офицерской чести — я очень стеснялся, что на костылях, что заикаюсь, но чувствовал себя — хотел чувствовать! — взрослым.
Пенсия — это нечто постыдное, все привилегии — проехать на трамвае и, по-моему, раз в неделю (уже не помню) помыться в бане, ну так очередь фронтовиков больше, чем просто в нормальное пойти отделение, и я решил зарабатывать, а сам же ничего не умел, кроме как стрелять и рисовать».
— Люди моего поколения с трудом представляют себе эти беспросветные послевоенные годы, когда не хватало всего, многое было разрушено, и не ясно было, как жить дальше и что впереди. Знаю, что вы тогда страшно, запойно пили...
— Да я и после пил...
— В этом война была виновата?
— Не-а... Вообще, жизнь у всех была довольно тяжелой — сама атмосфера была тягостной, душной.
— Пили в основном что?
— Водку, и очень много — даже стыдно много, просто у меня особенность была, которой гордился: я мог изрядно выпить, не сильно пьянея, и только потом уже хмель ударял в голову. В общем, тягаться со мной было трудно, и это меня смущает, потому что сегодня уже я не тот, такие дозы алкоголя уже не осилю, но вот приехал ко мне пару лет назад Юрий Карякин, и Аня, жена, ужаснулась тому, сколько мы выпили.
— Порох в пороховницах, выходит, еще есть?
— Слава Богу. Мы пару бутылок водки и коньяка оприходовали, после чего он сказал: «Папа, хочу мороженого» — это значит, надо пойти в ресторан.
— Бытует мнение, что многие солдаты и офицеры, поднимаясь в атаку, кричали: «За Родину!» и «За Сталина!» — это миф или вы действительно в бой с именем Сталина шли?
— Чушь это все: матерились, а что Сталина вспоминали — официальная легенда, не более. Не до того было, и, может, засмеяли бы сослуживцы...
— ...если кто-то бы крикнул?
— Ну да, хотя, допускаю, в определенный момент и кричали — почему нет?
«Я ВЫРОС В СЕМЬЕ, ГДЕ СЛОВО «СТАЛИН» БЫЛО РУГАТЕЛЬСТВОМ»
— Сталина во время войны вы любили?
— Иосиф Виссарионович был, конечно, для всех символом, но сказать, что любил, — нет: я вырос в семье, где слово «Сталин» для отца было ругательством.
— Он позволял себе при вас плохо о вожде отзываться?
— Не только при нас — отец был картежник, и когда за столом компания пульку расписывала, он между делом Сталина материл.
— Не боясь, что кто-то на него стукнет?
— Да, просто все это были друзья детства, хотя и очень разношерстная публика. Поразительно, что люди в 30-е годы так доверяли друг другу, во всяком случае, папа распоясывался совершенно — как-то раз в припадке ярости даже обозвал Сталина мешком с грузинским дерьмом.
У нас в тот день в гостях был Наум Дралюк, большой начальник на «Уралмаше» и, естественно, член партии. Он воскликнул тогда: «Хорошо, что ты в своей среде, но прекрати — тебя же расстреляют!», на что отец провидчески ответил: «Наум, нас, белых офицеров, расстреливать перестали. Сейчас уже не до нас, сейчас вы друг в друга стреляете, так что ты сам в своем патриотизме будь осторожен». Наума потом действительно пустили в расход...

Из книги «Говорит Неизвестный».
«Ответ на вопросы о природе советского режима, которые у многих разрешались лишь в зрелом возрасте, мне слышался, пускай противоречивый, уже в детстве. Мой отец был белым офицером и происходил из купеческой семьи, мои дядьки тоже служили в Белой армии, а один, младший, став лишенцем, предпочел уголовный путь. Каким образом отец жив остался и как мой дед умудрился сохранить часть домов от бывшего состояния? В Свердловске я родился в его доме — это был большой особняк в хорошем купеческом районе недалеко от Ипатьевского дома, где расстреляли царя и его семью (сейчас нашего дома и района не осталось — все снесено и перестроено).
Когда отец незадолго перед смертью со мной прощался (по существу, его привезли в Москву на носилках), мы с ним сидели всю ночь и разговаривали. Человек он вообще был суровый, неразговорчивый, но на этот раз был предельно со мной откровенен и многое мне объяснил. Он рассказывал, что дед — по убеждениям либерал — был в группе уральских просвещенных капиталистов, которые хотели если не революции, то уж, во всяком случае, конституционных изменений для поощрения технического прогресса — видимо, его мировоззрение было близко к взглядам Щукина или Морозова. Отец поведал, что был такой Жоров, каким-то образом далекий наш родственник, что эта фамилия упоминается у Ленина, и Жоров был посредником между Лениным и капиталистами. Морозовские деньги попали к большевикам, и на них выпускалась в Швейцарии революционная литература, но не вся — часть ее печаталась в нашей семейной типографии в Оренбурге.
После октябрьского переворота, видя, как оборачиваются события, отец стал на сторону белых. Имущество нашей семьи было конфисковано, один дядька служил у атамана Дутова, другой, так же сражавшийся на стороне белых, был убит, и вот, когда отец вернулся домой, пришли красные, они с дедом были захвачены и подлежали расстрелу, но тут бабка вспомнила про типографию и представила какие-то свидетельства. К тому же главный жандармский офицер Оренбурга, который перешел к чекистам, подтвердил, что Неизвестные печатали в своей типографии революционные материалы, — таким образом, жизнь деду и отцу была сохранена, и даже некоторые частные владения были возвращены, в том числе и наш дом.
Своего неприятия советской власти отец не скрывал — это я помню с детства, причем не скрывал удивительно открыто, однако его не трогали, вероятно, потому, что очень хорошим детским хирургом был, отоларингологом. Он делал операции высокопоставленным детям, и его сохраняли, глядя на его политические воззрения сквозь пальцы, будто он просто болтун. Кстати, когда уже в зрелом возрасте я прочитал «Собачье сердце» Булгакова, понял: то, что говорил профессор Преображенский, выдумкой не было — это носилось в воздухе и слово в слово напоминало речи моего отца. У него, кстати, было еще одно любимое занятие — с советским радио полемизировать: он ложился на диван, включал радио на полную катушку и комментировал, так что наслушался я достаточно...
Это — одна сторона, а вторая — мама: совершенно другого типа человек, интеллигентка, по профессии химик-биолог, поэт, писатель. Круг ее знакомств был внеполитический, но в высокой степени гуманитарный, и тоже не советский — она очень много занималась Анной Бизант, теософией, так что и мой интерес к философским темам родился в детстве. Помню, как для многих моих друзей откровения, скажем, Бердяева или отца Павла Флоренского раскрыли глаза, а для меня это юношеское чтение было (возможно, понимал я не все, но круг этих интересов внове мне не был).
Кроме того, по научным своим убеждениям мама была вейсманистом-морганистом, потому вся страдавшая от Лысенко когорта сосланных на Урал ученых тоже была мне близка. Больше того, у меня детский уголок был, на базе которого профессором Ягодовским и другими генетиками опыты проводились, — все это было законспирировано под детский живой уголок (у меня было невероятное для нормального дома количество животных, которых они мне покупали).
Киев — Нью-Йорк — Киев
(Продолжение в следующем номере)

 Заместитель командира добровольческой спецроты МВД «Торнадо» Николай ЦУКУР: «Расцепил руки только после того, как мне наступили берцем на яйца. Как оказался голым, уже не помню — после удара по голове потерял сознание»
Заместитель командира добровольческой спецроты МВД «Торнадо» Николай ЦУКУР: «Расцепил руки только после того, как мне наступили берцем на яйца. Как оказался голым, уже не помню — после удара по голове потерял сознание» Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ: «После боя мы могли рядом с разорванным трупом есть и даже ставить на него котелки, и хотя привыкнуть к этому невозможно, чувствительность притупляется»
Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ: «После боя мы могли рядом с разорванным трупом есть и даже ставить на него котелки, и хотя привыкнуть к этому невозможно, чувствительность притупляется» Экс-депутат Госдумы России Илья ПОНОМАРЕВ: «Путин не отцепится от Украины, даже если президентом станет его кум Медведчук»
Экс-депутат Госдумы России Илья ПОНОМАРЕВ: «Путин не отцепится от Украины, даже если президентом станет его кум Медведчук» Роман БЕЗСМЕРТНЫЙ: «Пора сказать миру: «Платите за то, что мы воюем с Россией, иначе получите проблему, с которой не справитесь»
Роман БЕЗСМЕРТНЫЙ: «Пора сказать миру: «Платите за то, что мы воюем с Россией, иначе получите проблему, с которой не справитесь» Муж и жена — одна сатана, или Зачем Надежде Савченко понадобилась в переговорном процессе супруга Медведчука
Муж и жена — одна сатана, или Зачем Надежде Савченко понадобилась в переговорном процессе супруга Медведчука Заместитель добровольческой спецроты МВД «Торнадо» Николай ЦУКУР об избиении в суде: «Матиос испугался требования открыть суд, иначе всплывут факты фальсификации дела против «Торнадо»
Заместитель добровольческой спецроты МВД «Торнадо» Николай ЦУКУР об избиении в суде: «Матиос испугался требования открыть суд, иначе всплывут факты фальсификации дела против «Торнадо» Известный украинский поэт Александр КОРОТКО: «Поэзия с Божьей помощью не потеряла поэта. С читателем проблематично»
Известный украинский поэт Александр КОРОТКО: «Поэзия с Божьей помощью не потеряла поэта. С читателем проблематично»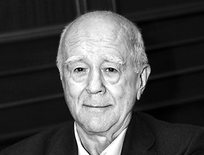 Дурні гроші
Дурні гроші Двое из ларца: самые известные близнецы
Двое из ларца: самые известные близнецы Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк
Дом, милый дом. Кличко и Панеттьер показали новый особняк Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз
Знаменитые актеры, которых не приняли в вуз Родом из детства: звезды тогда и сейчас
Родом из детства: звезды тогда и сейчас Делу время, потехе час. Хобби звезд
Делу время, потехе час. Хобби звезд







 Звезда "50 оттенков серого" показала грудь
Звезда "50 оттенков серого" показала грудь Без комплексов. Lady Gaga показала белье
Без комплексов. Lady Gaga показала белье Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой
Дочь Джони Деппа ощущает себя лесбиянкой Наталья Королева выставила грудь напоказ
Наталья Королева выставила грудь напоказ 18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь
18-летняя сестра Ким Кардашьян показала новую силиконовую грудь Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?
Садальский о Василие Уткине: Где же твои принципы, Вася?  Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги
Пугачева будет судиться с Ирсон Кудиковой за долги Джейн Биркин помирилась с Hermès
Джейн Биркин помирилась с Hermès Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги
Тесть и теща Владимира Кличко не поделили деньги